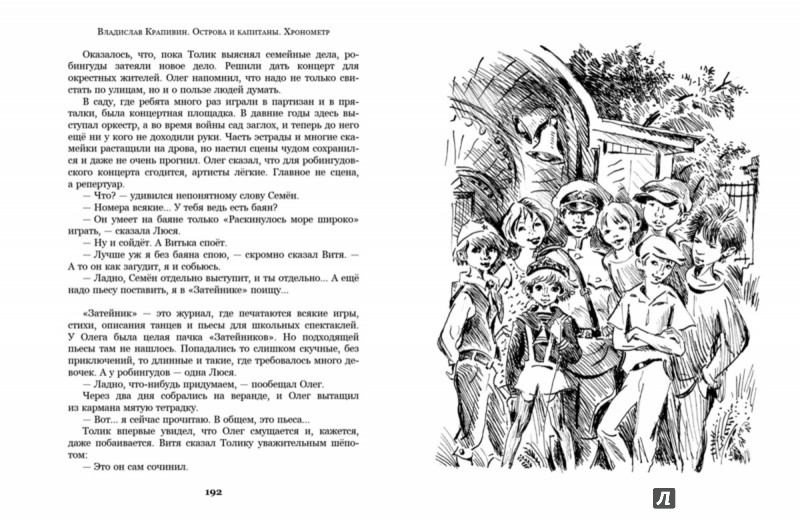Холиварофорум
Вы не вошли.
#1 2015-04-12 11:56:53
- Анон


Крапивин
Давайте перетрем за Крапивина 
Как подсели? Как соскочили? Что вызывало любовь и ненависть? Изменилось ли с годами впечатление от прочитанного? Хотели вступить в Эспаду или бороться с мировой несправедливостью? Были "Крапивинским мальчиком/девочкой" или антиподом? ВПК бойлавер или как?
Анон недавно прочитал последнюю на данный момент вышедшую книгу "Переулок капитана Лухманова" и ностальгически расстроился. Мог же когда-то ВП, а сейчас вместо проглатывания строчек одно чтение по диагонали. Плоско, блекло, расплывчато и ни о чем.
#32901 2021-03-10 21:35:33
- Анон
Re: Крапивин
Оруженосец Кашка
Иллюстрация к дрыхнущим охранникам
#32902 2021-03-12 19:33:31
- Анон
Re: Крапивин
Поколотят, напомню, положительные герои, за то, что Женя перепутала провода и подавала непонятные сигналы, играя, что она капитан, на чердаке сарая, который стоит у неё же на участке.
Поколотят вообще-то за то, что она ради прикола поломала сложную, налаженную и полезную систему связи команды, которую пацаны сделали своими руками. Что Женя - дочь арендаторов участка ребятки не вкурсе.
#32903 2021-03-12 19:42:37
- Анон
Re: Крапивин
Поколотят вообще-то за то, что она ради прикола поломала сложную, налаженную и полезную систему связи команды, которую пацаны сделали своими руками.
Которую они сделали на чужом участке, втихаря от хозяев, а не пришли и не сказали "можно, мы тут у вас свою систему связи сделаем?". Да и поломала она её случайно, не то чтобы Женя там злобно хохотала, упиваясь разрушением.
Понятно, что им обидно, но избить за это девочку толпой (как сходу предполагает Тимур, который, наверное, в курсе, на что способна его команда) - это как-то мерзко.
#32904 2021-03-12 20:08:22
- Анон
Re: Крапивин
Да вообще мерзко, когда кого-то собираются избить за не самое ужасное преступление. Да ещё толпой
#32905 2021-03-13 13:39:20
- Анон
Re: Крапивин
Анон пишет:Поколотят вообще-то за то, что она ради прикола поломала сложную, налаженную и полезную систему связи команды, которую пацаны сделали своими руками.
Которую они сделали на чужом участке, втихаря от хозяев, а не пришли и не сказали "можно, мы тут у вас свою систему связи сделаем?". Да и поломала она её случайно, не то чтобы Женя там злобно хохотала, упиваясь разрушением.
Понятно, что им обидно, но избить за это девочку толпой (как сходу предполагает Тимур, который, наверное, в курсе, на что способна его команда) - это как-то мерзко.
"поколотят" - думаю, это просто такое выражение, не предполагающее конкретных действий. Как родители могут сказать ребенку - "утонешь, домой не приходи". Там ведь даже "квакинцев" не били толпой. Так же и у Крапивина, за словесным преувеличением не следуют конкретные действия. Это вам не 90-е, когда действительно уже начались и драки между девчонками и травля толпой одиночек.
#32906 2021-03-13 13:50:04
- Анон
Re: Крапивин
Это вам не 90-е, когда действительно уже начались и драки между девчонками и травля толпой одиночек.
А ну да, конечно, в союзе ведь травли толпой не было... это все горби виноват...
#32907 2021-03-13 14:09:51
- Анон
Re: Крапивин
"поколотят" - думаю, это просто такое выражение, не предполагающее конкретных действий
Тогда зачем Тимур звонит ей в большой спешке и говорит, чтобы уходила скорей, а то примчатся люди и поколотят? Если его камрады ничего ей не сделают?
И потом, Женя на чердаке, мальчишки молча надвигаются на неё, её страшно, но появившийся Тимур её спасает.
Голос звонкий и резкий спрашивал:
— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?
— Это не осел, — пробормотала озадаченная Женя. — Это я — Женя!
— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. — Оставь штурвальное колесо и беги прочь. Сейчас примчатся... люди,
и они тебя поколотят.
Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед
лезли еще и еще мальчишки.
— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя. — Уходите!.. Это наш сад. Я вас сюда не звала.
Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.
Если бы она знала, что "поколотят" - это просто слова и бить её не будут, чего бояться-то? И почему они надвигаются молча? Даже после слов, что это её сад?
Если не собирались сходу бить, а хотели поговорить (ну мало ли, кто залез, они же видят, что это не Квакин и не его банда, а просто девочка, одна, незнакомая) - они бы остановились и спросили "Ты кто такая и что тут делаешь?", и всё бы выяснилось.
А вот это, когда ты спрашиваешь "Кто вы?", а на тебя молча прут толпой, зажимают в угол, и только что кто-то пытался предупредить тебя, что надо бежать или побьют - я думаю, стоит ожидать, что побьют, а не "просто такое выражение".
Отредактировано (2021-03-13 14:10:13)
#32908 2021-03-13 15:18:55
- Анон
Re: Крапивин
Как сказал один старый еврей, переживший холокост: «Если кто-то говорит, что хочет убить вас — верьте ему!»
#32909 2021-03-13 22:51:16
- Анон
Re: Крапивин
Оруженосец Кашка
Глава шестая
Окончание
#32910 2021-03-13 22:54:42
- Анон
Re: Крапивин
Мне нравится Райка!
#32911 2021-03-14 10:31:02
- Анон
Re: Крапивин
Значит, Райка второстепенная и поэтому без фамилии, а как же Юрка Земцов?
#32912 2021-03-14 20:04:13
- Анон
Re: Крапивин
Наоборот, первостепенные без фамилий
#32913 2021-03-15 11:19:21
- Анон
Re: Крапивин
Так у Кашки и Володи фамилии есть.
#32914 2021-03-15 11:28:20
- Анон
Re: Крапивин
Значит, Райка второстепенная и поэтому без фамилии, а как же Юрка Земцов?
Юрка мальчик. Ну или в лагере несколько Юрок и приходится уточнять, что говорят именно про этого, а Райка единственная в лагере девочка с таким именем.
#32915 2021-03-18 08:27:00
- Анон
Re: Крапивин
Анон пишет:Значит, Райка второстепенная и поэтому без фамилии, а как же Юрка Земцов?
Юрка мальчик. Ну или в лагере несколько Юрок и приходится уточнять, что говорят именно про этого, а Райка единственная в лагере девочка с таким именем.
У Крапивина все второстепенные герои с полными фамилиями, а если взрослуй то с отчеством.
Так у него голова устроена по видимому
#32916 2021-03-20 12:34:41
- Анон

Re: Крапивин
«Острова и капитаны»
Том 1 ОСЕ, часть 2 «Робингуды»
#32917 2021-03-20 12:53:38
- Анон
Re: Крапивин
Чтец, спасибо.
А сколько лет Шурке?
Помню, меня в детстве смущали иллюстрации Медведева.
Здесь он выглядит почти пятилетним.
#32918 2021-03-20 13:30:13
- Анон

Re: Крапивин
А сколько лет Шурке?
Не пять, конечно. В 1967 он говорит, что у него сыновья-близнецы-семилетки, а сам несколько лет как закончил какой-то кинематографический институт и успел подняться до второго режиссёра полнометражного фильма, это должность не для вчерашнего выпускника. Судя по всему, он года на три младше Толика, примерно 1940 года рождения. Подтверждения из текста навскидку не припоминаются, пусть поправят, если что.
А медведевские иллюстрации к «Островам» немного странные. Есть очень хорошие, а есть такие, в которых настроение прямо противоречит сказанному в тексте.
#32919 2021-03-20 16:05:34
- Анон
Re: Крапивин
После разоблачения очевидного вранья «не пробегал» следует одна из самых мерзких сцен в книге. А может, и самая мерзкая.
Для меня самая мерзкая - история с ямой (хотя она и не состоялась). Во всей трилогии самая мерзкая, хуже похождений гопарей из "Таверны". Там малолетние преступники, что с них взять? А тут хорошие мальчики, пионэры, да еще в боготворимую любителями СССР эпоху, а не во времена гнилого Застоя.
#32920 2021-03-20 23:54:08
- Анон
Re: Крапивин
А сколько лет Шурке?
10 лет примерно. Пацан по габаритам просто мелкий.
#32921 2021-03-21 09:22:20
#32922 2021-03-21 11:28:10
- Анон
Re: Крапивин
Анон пишет:После разоблачения очевидного вранья «не пробегал» следует одна из самых мерзких сцен в книге. А может, и самая мерзкая.
Для меня самая мерзкая - история с ямой (хотя она и не состоялась). Во всей трилогии самая мерзкая, хуже похождений гопарей из "Таверны". Там малолетние преступники, что с них взять? А тут хорошие мальчики, пионэры, да еще в боготворимую любителями СССР эпоху, а не во времена гнилого Застоя.
Компания здесь довольно разношерстная по составу, но они там то учатся вместе, то живут по соседству. Похоже, просто возраст одинаковый. Ну, почти. И вроде откровенной шпаны в их окружении нет. А то, думаю, Мишка был бы в другой компании, такие компании всегда были, при любом строе.
#32923 2021-03-31 15:17:28
- Анон
Re: Крапивин
А то, думаю, Мишка был бы в другой компании, такие компании всегда были, при любом строе.
не знаю, в моем окружении шпаны нет.
#32924 2021-04-02 12:53:33
- Анон
Re: Крапивин
Купил вот сегодня:
https://fantlab.ru/edition250305
https://fantlab.ru/edition238204
Хорошо бы еще "Сказки и были Безлюдных пространств" в этой серии переиздали.
#32925 2021-04-02 13:05:33
- Анон
Re: Крапивин
Купил вот сегодня:
анон, а в Голубятне без "Праздника лета"?