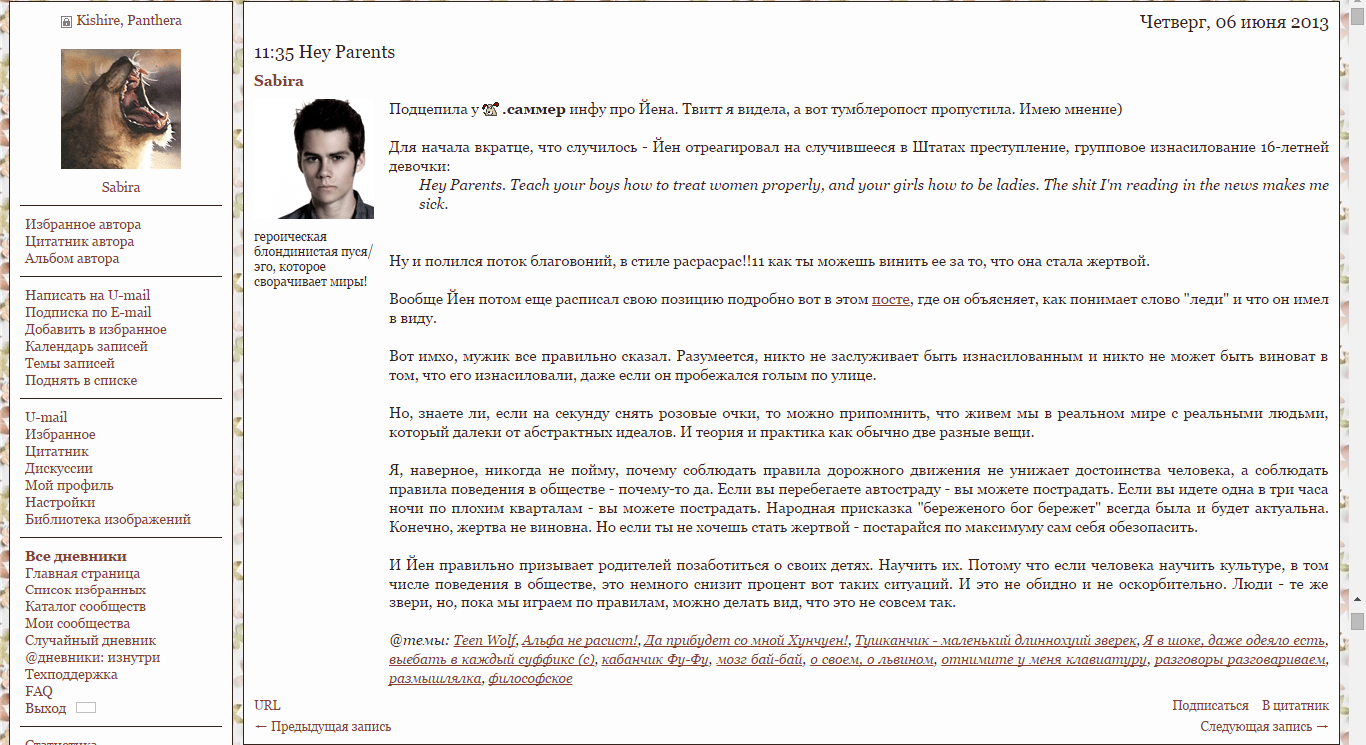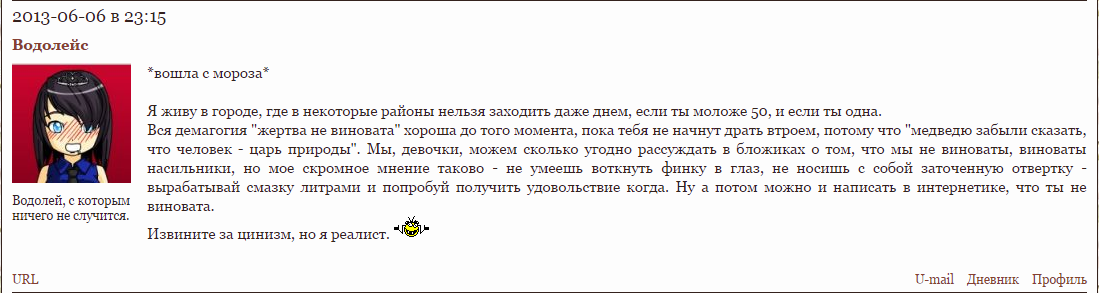Если бы гребанный Кисунь, шлюха драная, хотя бы раз попросил защиты, Герман, разумеется, взял бы его под свое крыло. И первым делом запретил бы прятать лицо. Шрамы были прекрасны – извилистые, нежно-розовые, окруженные выпуклыми точками от ниток, длинный светлый клинышек ото лба до подбородка, и немного под нижней челюстью.
Это была история, и история нетривиальная, а Герман любил истории. Его жизнь, прошлая, дотюремная, в основном крутилась вокруг историй, старых и интересных, полузабытых и вовсе никому не известных.
- Через пару абзацев мы узнаем, что старая жизнь – нихуя не старая, потому что и в тюрьме чувак продолжает заниматься своей темой и даже защитил диссер.
- Додо, как справедливо отмечалось, вот вроде бы и любит умных чуваков. Но совсем как-то и нет. По крайней мере, даже этому конкретному спецу-интеллектуалу – по собственному же его пову – на хуй не интересно то, чем он занят.
Но Кисунь его покровительства не просил. Кисунь его вообще прилично боялся, куда больше, чем других заключенных, даже тех, которые его регулярно обижали. Пожалуй, так же сильно Кисунь боялся только Джаспера.
Германа это оскорбляло, причем, его оскорбленное достоинство не могло найти достойного выхода эмоциям - не закатывать же скандал тюремному петушку, которому совершенно наплевать, кому подставлять задницу и рот.
Джаспер, вообще-то, был на всю башку больной.
Родной, так ты ж ни хуя не лучше, судя по течению твоей мысли.
Вот от этого захода - Джаспер, вообще-то, был на всю башку больной.
Джаспер был совершенно ебнутый, - неуловимо повеяло говнофиклом по Бешеным псам. А также малолеткой, рандомными восклицательными знаками, стремными эмоциональными выплесками и необъяснимой восторженностью автора по малоподходящим поводам.
по тюряге ходили слушки, что он делает с Кисунем такие вещи… в общем, Герман ничего подобного не творил. Он вообще Кисуня почти не трогал, даже когда звал к себе скрасить время. Так что этот скрытый, тщательно подавляемый, но вполне реальный ужас в огромных темных глазах был для него неописуемо оскорбительным.
Все герои Водолея, которые обижаются на то, что жертва насилия их боится, прекрасны. Но этот отдельно хорош: при учете, что мужик вроде как подмял под себя ебучий тюремный блок, и страх – это его инструмент влияния, которым он худо-бедно осознанно должен пользоваться. Собственно, он должен бы культивировать страх, чтобы держаться наверху. И должен понимать, что делает это. Или он рандомно, жонглируя котами и бугагашеньками попал на свою ступеньку в местной иерархии?
- Ты меня боишься? – спросил Герман, неожиданно даже для себя.
Кисунь смирно стоял перед ним, голый и босой, в синяках, со связанными за спиной руками. Должно быть, у него уже начало ломить руки, он весь покрылся мурашками от холода, но не жаловался.
И с чего бы это ему, блядь, тебя бояться-то? Интеллектуал ты наш?
- А должен? – спросил Кисунь, сглотнув слюну в пересохшем рту.
На самом деле он, конечно, боялся. Ему иногда связывали руки, но после этого следовали конкретные действия, к этому уже Фелипе привык. Но чтобы вот так – связать и таращиться на него полчаса, ничего не предпринимая, только рассматривая со всех сторон и хмыкая – такого с ним никогда не делали, и это его пугало. Фелипе вообще, в принципе, пугала непредсказуемость, а Профессор именно этим и славился. Совершенно нечитаемый, странный мужик: о чем думает – непонятно, чего хочет – неясно, поступает непредсказуемо. Взгляд тяжелый и всегда мрачный – темно-зеленое стекло под тяжело нависшими веками. И еще очки.
«О чем думает – непонятно, чего хочет - неясно» - это черта любого Водолей-героя, привыкай, родной. Ты, в сущности, такой же. Это не потому, что профессор – пиздец загадошный. Это потому, что он хуево продуманный. А он еще и хмыкает, блядь. Ах, какой он задумчивый и особенный, задумчивый, особенный и непредсказуемый он, задумчивый особенный эстет профессор есть у меня, не в каждом втором фикле на фикбуке, только у меня он есть, сраные хейтеры.
Фелипе привык угадывать чужие мысли по одному лишь взгляду, в его положении иначе было и не выжить, не то, что бы он так цеплялся за жизнь, просто… умирать было страшно, он пробовал. Пусть и жизнь-то была не сахар, но иногда выпадали светлые деньки.
Правда, угадать мысли или желания Профессора он никогда не мог, а не угодить было опасно, чревато болезненными последствиями.
И-чего-же-он-тебя-боится, дубль второй.
Герман кривовато усмехнулся. В другом месте это могло бы стать началом флирта: «Ты меня боишься? - А должен? – Ну, я же такой страшный и опасный. – О, как ты меня напугал и заинтересовал!». На самом деле это обозначало ровно то, что обозначало – Кисунь прямо спрашивал, как ему себя вести. Так проститутка на вопрос «Как тебя зовут?» - отвечает «А как тебе нравится, милый?».
Да мы поняли, поняли, этот диалог и в первый-то раз хорош не был, не надо в третий раз его прогонять, я знаю, что у Даши по роду деятельности под рукой много фанеры, но чож все-то из нее, ни слова своего?
(С другой стороны, если здесь будет «свое» слово, это слово, вероятно, будет «тремпель», так что завалю-ка я ебало от греха подальше).
- Нет, не должен, - спокойно ответил Герман. – Не бойся. Подойди.
Кисунь кивнул и медленно подошел к узкой тюремной кровати, на которой удобно устроился Герман, но настороженность никуда не утекла из его выразительных глаз. Радужки были такие насыщенно-черные, что почти сливались цветом со зрачками. Поэтому, должно быть, всегда казалось, что Кисунь обдолбан или ему сильно нравится происходящее. Герман подозревал, что нет, далеко не всегда.
Ебаная страница бесконечных повторений о том, как он боится, - и тут: Герман ПОДОЗРЕВАЛ, что НЕ ВСЕГДА. Мой маленький гений.
И выражали эти глаза, как правило, совсем не то, что Кисунь на самом деле чувствовал. Герман за ним часто наблюдал исподтишка, и даже поражался - неужели только он один-единственный видит, что даже когда Кисунь улыбается, сверкая белыми, ровными зубами, глаза у него совсем грустные и потухшие, совершенно отстраненные от реальности. Хотя, наверное, всем было абсолютно насрать, что там на самом деле ощущает общая тюремная подстилка.
И безусловно, всем было насрать. Или не насрать, но ты бы не узнал: как и со шрамами. Но ты в обоих случаях все равно должен был припезднуть, что ты единственный. Потому что тебе четырнадцать лет, у тебя усы девственника, и ты у мамки – Не Такой.
- Тебе больно? – спросил Герман. – Руки болят?
Кисунь моргнул. Ресницы у него были очень длинные и очень густые. В другое время, будь Герман снова профессором, известным ученым, а Кисунь… его студентом, к примеру, все могло быть иначе.
Герман нарушил бы преподавательскую этику и выебал студента.
И нет, просто парнем, которого МОЖНО ебать, не въезжая в говно, Кисунь ни в одной версии ни одной реальности быть не мог бы. Это Водолей. Зачем еще студенты, как не чтоб ебать?
Герман очень хотел поцеловать эти мохнатые, мягкие ресницы, прикоснуться к ним губами, ощутить их прикосновение к щеке – но в его положении, там, где они находились, он, конечно, не мог себе такого позволить.
И почему же? Зашквар? Тут твоя нетаковость и храбрость обламывется малеха, да?
Кисуню на мордашку спускала вся тюряга. От него и пахло так… специфически. Сладкими женскими цветочными духами и спермой; грязный и тошнотворный на самом деле запах, если принюхаться. Сначала ничего, сладенько, если закрыть глаза, можно подумать, что перед тобой юная барышня, но потом проступают пот и грязь, и мускус, и какая-то гниющая нотка.
Додо, на заметку: если ты немытое тело поливаешь духами, то оно ни сначала, никогда не пахнет «ничего, сладенько». Оно все еще пасет. Можно не принюхиваться. Ты подхвати советик, авось, после регулярных омовений, и это – слизь куда денется. Пахучая.
Так и должен пахнуть общественный толчок: приемлемо, чтобы его использовать по нужде, и гадко, чтобы от него побыстрее отделаться.
А то можно и привязаться к толчку. И жить там остаться. С каждым случалось, чо там.
Меня отдельно прет, как Додо – видимо – пытается выписать конфликт восприятия, когда вроде бы профессор няшкой любуется, она ему нравится, он хочет ее защитить, а вроде бы все время в голове всплывают понятия, мысль о том, что это общий «петух», и профессор себя одергивает. И вот у меня вопрос: ну ладно это был бы пов матерой урки. Но откуда такие крепкие «понятия» - в голове у цивила, профессора, который должен бы мыслить категориями внешнего мира? И немножко иначе воспринимать жертву систематического насилия? Не обязательно с сочувствием, к слову. Но уж точно – не «по понятиям».
- Болят, - тихо сказал Кисунь.
В его голосе не было просьбы, только констатация факта. Если Кисунь о чем-то когда-то и просил, то Джаспер с дружками его наверняка давно отучил. Джаспер был из тех уродов, которые тащатся от слез и жалоб.
И-таки снова: а я у мамки не такой! И я не хуй! Не подумайте, что я хуй! Вон, еще Джаспер есть! Вот Джаспер – совсем другое дело. Цените разницу.
- Повернись, - приказал Герман. – Опустись на колени.
Кисунь тут же послушался, он вообще никогда никому не противоречил. Он опустился и повернулся спиной, но все-таки, несмотря на свою сдержанность, не сумел сдержать вздоха удовольствия, когда ремень, туго стягивающий его запястья, ослаб.
Постоял на коленях – прошел три шага – встань на колени. Весееелые у вас тут, ребята, пляски. Кинк на кинке прям. И кинком погоняет.
Кисти заныли, онемевшие пальцы закололо невидимыми иголочками, Фелипе неуклюже прижал руки к груди - и едва не вскрикнул от неожиданности, когда его вдруг подхватили за плечи и усадили на кровать.
Почему? Ну какое «вдруг» - когда его мацает каждый желающий, в любой момент времени, и он вроде бы как бы весь такой привыкший и покорный судьбе?
- Дай руку, - приказал Профессор категоричным тоном.
Фелипе робко протянул ему левую ладонь, не зная, чего и ожидать. С Профессора бы сталось сломать ему запястье, хотя обычно он больно не делал. За ним вроде излишней жестокости не водилось, но мужик он был опасный.
«С него бы сталось так сделать» - «но он так не делал» - «но сделал бы» - «но не делал». То есть делать ничего не надо, но как бы пару лишних раз приподнять героя тем, что он мог бы, - эт обязательно. У Водолейки это, судя по всему, такой знак отличия, наклейка на бампер. «Опасный мужик». Почетно и хвастануть не грех.
Сильные шершавые пальцы легли на натертую кожу и принялись осторожно массировать, разгоняя застоявшуюся кровь. Фелипе молчал и старался, как мог, не выдать своего удивления. Это было что-то совершенно новое, так близко Профессор его к себе еще никогда не подпускал. Обычно он или смотрел, а потом прогонял, или пару раз подрочил, приказывая Фелипе встать или повернуться, или наклониться, или еще сделать что-нибудь вполне безобидное. Правда, один раз он крепко взял Фелипе за волосы и повозил лицом по своему опадающему члену, размазывая остывшую сперму по щекам. Но это было давно, всего один раз, и после этого Профессор его почти месяц к себе не звал.
Чо-т как-то жалко. Или я чего не понимаю, или образ унылого школьника все больше и больше крепчает.
- Другую руку, - сказал тот.
Фелипе протянул ладонь и невольно сжал пальцы, что бы спрятать облезший черный лак на ногтях. Профессор был такой… ну классически-обстоятельный, умный и очень образованный. Такие мужики, в строгих костюмах, в дорогих галстуках, всегда проходили мимо Фелипе, не оглядываясь. Ему нравился именно такой типаж, но для мужчин подобного класса он лигой не вышел, о чем прекрасно знал, так что даже не старался привлечь их внимания.
Если бы не условия, в которых они выживали, Профессор бы на него и не поглядел. Но, если все же учитывать условия, было бы прекрасно, если бы Профессор на него не глядел. Если бы вообще никто не глядел, если бы для этой хищной своры в оранжевых куртках Фелипе раз и навсегда стал бы невидимкой.
- Страшное вранье говна кроется в том, что мужики в костюмах не трахают ребяток «из другой лиги».
- Он возил членом тебе по лицу, а ты смущаешься за черный лак? Потому что женский атрибут или в чем дело?
Фелипе вдруг заметил, что Профессор снова пристально пялится на него своим ничего не выражающим, мрачным взглядом. У него сразу подмышки взмокли и по спине потек пот – Джаспер обычно так глядел, когда придумывал новую «шалость», как он говорил со смехом. И каждый раз это было что-то гадкое и болезненное, отвратительное и совершенно не забавное.
Ну только не это! – мысленно взмолился Фелипе, надеясь, что его лицо не отражает охватившего отчаяния. Одного садиста и психопата, повернутого на издевательствах, он мог как-то пережить, скрываясь в темных углах, но двое сразу, тем более из враждующих банд, его просто перемелют как зернышко, попавшее в жернова, и даже не заметят.
Бля, да он все время, что я вас двоих знаю, на тебя пялится. Собственно, он только этим и занят. Чо щас изменилось-то?
Герман потянулся к нычке, достал пачку сигарет, вытащил одну и неспешно прикурил. Кисунь глядел на него напряженным, немигающим взглядом, на верхней губе проступили мелкие бисеринки пота. На плече у Кисуня почти исчезли старые следы сигаретных ожогов.
Кто-то очень здорово постарался маркировать это молоденькое тело. Но в этом, признавал Герман, была своя красота упадка, прелесть постмодернизма, где некто пишет свое послание на живом человеке, как на холсте, а кто-то другой это послание расшифровывает. Кровь вместо краски, и что-то острое вместо кисти. И крик – вместо аранжировки оркестровой музыки. Бытовой перфоманс насилия.
Кисунь перевел взгляд на сигарету, его ноздри вздрогнули. Он проследил за полетом дыма и едва заметно сглотнул слюну. Должно быть, ему нравился шоколадный аромат.
А профессор-то – не просто школьник. Профессор у нас пидовка.
Олсо: профессор так страшен, что пол-тюрьмы - только под себя не срется. Но сигареты почему-то держит в нычке. У него что, кто-то решится украсть? Хуйня он, а не "авторитет", чо я могу сказать.
- Нравится? – спросил Герман.
Кисунь почти заворожено кивнул и нервно облизнул нижнюю губу. Из его черных глаз на время исчезла тоскливая пустота, он задумался о чем-то, - явно о чем-то хорошем, - уголки рта дрогнули, хоть и не посмели сложиться в улыбку. Взгляд стал нежным и даже радостным, и наконец-то сквозь маску безотказной, безмозглой шлюшки проступил живой человек. Какой-то совсем молодой мальчик, которого на самом деле никто не знал и которого никто не замечал, кроме Германа.
Да и ты его не замечаешь, еблан. Потому что у тебя герой, который явно – причем в твоем пове тоже – оказался в неприятном положении в неприятном месте почему-то называется «безмозглой шлюхой». И не важно, что ты ни разу в жизни с ним не заговаривал (а в основном в тишине на него дрочил), и не важно, что ты понятия не имеешь о том, кто он такой. Он каким-то образом – шлюха, и безусловно – безмозглая. А ты у нас умница.
Бля, я когда читал комменты и рассуждения Водолея о том, что чуваку в жизни дико не повезло (и даже Додо не хочет над этим глумиться в уникальной своей манере: «я исполню развеселую партию на ниточке слюны, текущей у меня изо рта, потому что я тупой еблан»), а потом чувак встречает мужика, который о нем позаботится, я думал, это будет хуево написано – но авось все-таки это будет хоть немножко по-людски. Хуй там был. Какой хороший мужик? Какое «позаботится»? Еблан смотрит на сигаретные ожоги и думает «фап-фап-фап, какой постмодернизм, я дерзкий, я пиздатый!». А через пару глав, поди, мне предложат откушать, что у ребят великая любовь и «мой ежик». Ну заебись.
Твою мать, - тоскливо подумал Герман, чувствуя, что он серьезно влип.
Он никогда раньше не испытывал действительно сильных чувств, разве что кратковременное любопытство и скуку. Был женат и развелся – но этот опыт стек с него каплями воды, не оставив в его душе никакого отклика. А вот мальчишка-заключенный, петушок, через которого вся тюряга неоднократно проходила,
Ебтить, мы поняли, через меня глава эта стекает – и не каплями, а Ниагарским водопадом, вот, сука, сколько в ней воды.
почему-то оставлял сильный отзвук, а Герман толком не мог понять – какой.
О господи – КАКОЙ ЖЕ?! ЧТО Ж ЭТО БЛЯДЬ МОЖЕТ БЫТЬ?!
Он, как и все люди науки, препарировал любовь на составляющие, и мог найти ее истоки в творчестве любого более-менее известного деятеля искусства.
…и мы всегда знали, что Додо ни малейшего представления не имеет о «людях науки», но каждый раз смешно.
Кисунь вызывал у него и раздражение, и интерес, и похоть, и какую-то глухую злость, и жалость, и нежность, и желание сделать ему больно, и желание подчинить его, заставить покориться.
Каким нужно быть чумным объебосом, чтобы у тебя желание подчинить вызывал самый слабый, самый беспомощный человек в зоне досягаемости, который и так – ни при каких раскладах – не сопротивляется и со всем давно согласился? Что не так с тобой?
Хотя тут-то проблем не было - Кисунь охотно подчинялся всем.
Но Герман хотел совсем не так, он хотел, чтобы Кисунь подчинялся не потому, что надо слушаться уважаемого человека, или потому что он боится, или потому, что привык подчиняться, чтобы выжить, а потому что сам хочет довериться другому.
И у меня поразительные новости для Даши, но это называется доверие. Не подчинение – потому что доверие. Просто доверие. Разные вещи. Вообще.
А потом вдруг – без перехода, вот под эти интересные мыслишки о философии БДСМ в условиях, блядь, тюремной иерархии с русской зоны, - профессор вдруг решает, что было бы пиздато, если бы чувак потушил об него сигарету. И обещает ему за это все пачку. И чувак не хочет тушить об него сигарету, но – следите за руками – профессор хочет, чтобы тот подчинялся ему не потому, что боится, а на доверии, - поэтому выкатывает хуи на тему «ТЫ МНЕ НЕ ПОДЧИНЯЕШЬСЯ?!» и заставляет его сделать то, чего чувак делать не хотел.
Герман заскрипел зубами. Боль ярко вспыхнула в ладони и моментально растянулась ядовитой паутиной до кончика каждого пальца. Кисунь выронил сигарету, вскочил на ноги и отбежал подальше. Герман несколько секунд рассматривал круглый ожог на ладони, наблюдая, как изменяется, краснеет и припухает поврежденная кожа. Кисунь тяжело дышал и что-то хрипло, слезно бормотал на испанском. Молился, наверное.
Герман достал непочатую пачку сигарет и бросил ее в сторону мальчишки.
- Заслужил, - сказал он. – Одевайся и выметайся.
Кисунь тут же кинулся к своей одежде, подхватил ее в охапку и прямо так, голышом, выскочил прочь. Здорово он, должно быть, перепугался.
Отдельно радует то, как описывается реакция нормального человека в этой ситуации:
- Я… я не могу, - выдохнул Кисунь. – Это же больно!
Он посмотрел затравленно, и судя по его дикому виду, ему было легче потушить сигарету о себя, чем о кого-то другого.
Чувствуете, да, какая сучка жалкая, виктимная и инфантильная? Это вам не опасный мужик. Ну ничего, пришел взрослый дядя, он научит няшку, что почем.

 там Кабуто хотел закусить вино шоколадкой.
там Кабуто хотел закусить вино шоколадкой.




 Может, Додо плясала от имеющихся у неё шрамов в бочине пузине и не сообразила, что лицо штопают нимношка иначе в наши продвинутые времена?
Может, Додо плясала от имеющихся у неё шрамов в бочине пузине и не сообразила, что лицо штопают нимношка иначе в наши продвинутые времена?