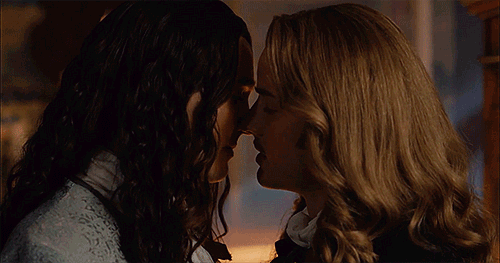Холиварофорум
Вы не вошли.
#1 2023-06-04 18:02:10
- Анон
Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Сериал "Версаль": боевая феечка, дворцовый кот, микроминеты и новые туфельки!
Теги: #моншеви #алвамарсель #марселеверсаль #рокэфилия #маршеви #шеврок #мармеладка #моншелотте #историческиймоншеви
Ссылки:
Аккаунт сериала
Alexander Vlahos твиттер | инстаграм | Threads
Evan Williams твиттер | инстаграм
Главный тред по ОЭ, в котором и зародилась идея для версалетреда. Рокэ Алва и Марсель Валме в Кэртиане, которая Земля.
Историческая матчасть
Музыкальные ассоциации
#551 2023-06-21 00:18:58
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Я смотрела в оригинале, на инглише.
А оригинал разве не на французском? Canal+ (чьё производство в титрах) вроде французский.
#552 2023-06-21 01:41:43
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Необходима доза марселефлаффа!

#553 2023-06-21 06:56:04
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Анон пишет:Анон пишет:в семейных сценах он с Лизелоттой))))
В качестве лучшей подруги?)) все-таки сцена проводов Марии Луизы выглядит офигеть как странно
"У нас с мужем всё общее, даже фаворит")))))))))
Но вообще да, в качестве лучшей подруги, с которой можно делиться нытьём о любимом мужчине, точно зная, что та поймёт
Судя по всему, он там в основном обсуждал любимую женщину 
#554 2023-06-21 06:57:54
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
#555 2023-06-21 07:01:54
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Необходима доза марселефлаффа!
 ▼#мармеладка⬍
▼#мармеладка⬍
о-о-о  прекрасно! Говорят по-итальянски
прекрасно! Говорят по-итальянски  и такая нежность, так и представляешь расслабленных котиков
и такая нежность, так и представляешь расслабленных котиков  И очень логично, что бродить хочется тому, кто всю жизнь вынужденно сидел у брата на коротком поводке. И как они не забыли Рокэ и шевалье
И очень логично, что бродить хочется тому, кто всю жизнь вынужденно сидел у брата на коротком поводке. И как они не забыли Рокэ и шевалье 
#556 2023-06-21 08:25:40
#557 2023-06-21 10:03:44
#558 2023-06-21 10:10:25
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
В главном треде хотят марселелаверские фики, а у нас их уже столько 
#559 2023-06-21 14:08:03
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
В главном треде хотят марселелаверские фики, а у нас их уже столько
Это я хочу марселефики, я!!!! приходится их писать тут)))))))))))))))))) 
#560 2023-06-21 16:07:00
#561 2023-06-21 16:11:09
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
#562 2023-06-21 16:50:35
#563 2023-06-21 17:47:44
#564 2023-06-21 17:50:18
#565 2023-06-21 17:53:25
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Кстати, по поводу пряток, в которые играли во втором и третьем сезонах, что-то подобное могли вчетвером замутить. Различить между собой Марселя и шевалье или Филиппа и Рокэ проигравший снизу))) 
#566 2023-06-21 18:01:40
#567 2023-06-21 18:02:44
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Кстати, по поводу пряток, в которые играли во втором и третьем сезонах, что-то подобное могли вчетвером замутить. Различить между собой Марселя и шевалье или Филиппа и Рокэ проигравший снизу)))
Ооооо!
#568 2023-06-21 19:35:57
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Даже не буду прятать! Вот сколько смотрю, Месье тут эльфа напоминает, один локон так свисает вперед, сразу эльфы из ВК вспоминаются)))
#569 2023-06-21 19:38:24
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
И еще вот 

#570 2023-06-21 19:49:37
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!


#571 2023-06-21 19:52:13
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Блин, я не могууууу 

 несколько дней думала принести или нет, но
несколько дней думала принести или нет, но 
#572 2023-06-21 20:28:23
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Мне кажется, после предыдущей гифки эта неизбежна. 
#573 2023-06-21 20:49:52
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Мне кажется, после предыдущей гифки эта неизбежна.
 ▼Скрытый текст⬍
▼Скрытый текст⬍
 и ворох разнообразных неприличных реплик
и ворох разнообразных неприличных реплик 
#574 2023-06-21 23:01:31
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Блин, я не могууууу


несколько дней думала принести или нет, но
 ▼Скрытый текст⬍
▼Скрытый текст⬍
Она ещё думала!!!!))))
#575 2023-06-22 15:19:40
- Анон
Re: Сериал "Версаль": боевая феечка и дворцовый кот!
Вот сколько смотрю, Месье тут эльфа напоминает, один локон так свисает вперед, сразу эльфы из ВК вспоминаются
Есть такое ))) Невероятно красивый. Знаю, что канонный роковой красавчик — шевалье, но вы посмотрите на этого эльфовампира! Еще и принц, ах и ох!