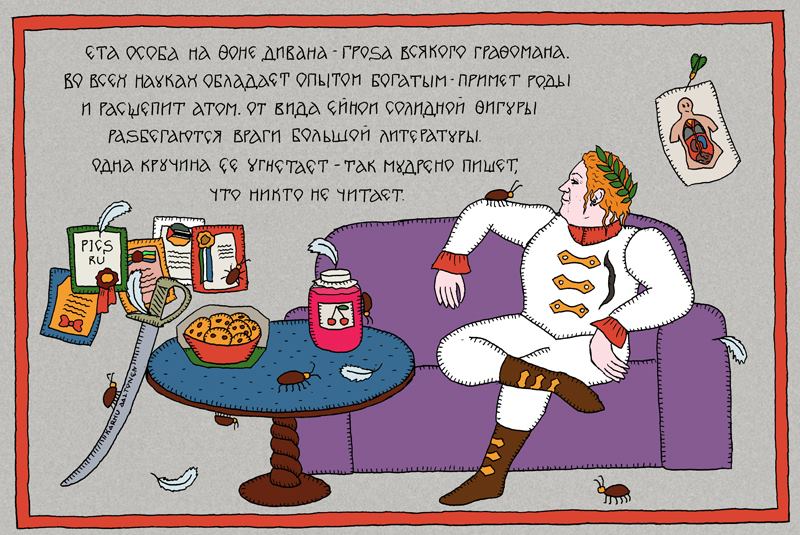Холиварофорум
Вы не вошли.
Объявление
#1 2014-05-16 09:47:15
- Анон
№407 Критический батхерт
http://inesacipa.livejournal.com/595497.html дама в ослепительно белом плаще утаскивает скрин с закрытого дайри сообщества и глумится над юзерами и фанфикшеном вцелом. Цитаты из фиков и попытки юмора в наличии. В комментах поддакивающие подружайки и внезапно замкэпа той самой команды, из соо которого потащен скрин.
"Приветствую. Мы будем очень благодарны, если в следующий раз, прежде чем публиковать где-либо скрины из закрытого командного сообщества, вы спросите мнение капитана. "
На что дамочка ответила: "Команды? Какой еще команды? Я в ваших боях на письках не участвую, я человек взрослый. Мне показали, я посмеялась - и взяла. И еще возьму, если чего смешного наваляете. Драконы, бгг. И ты, детка пугливенькая, возьми себе имя Вездессущий Кролик, оно тебе больше подойдет."
Вдогонку дамочка разражается еще одним постом, пытаясь потушить пылающую жопу: http://inesacipa.livejournal.com/595845.html
На этот пост пишет пухоспинка: http://puhospinka.diary.ru/p197545810.htm
Как поссорились Иван Никифорович с Иваном Ивановичем, то есть Цыпа с Максом (начало): https://holywarsoo.net/viewtopic.php?pi … 5#p1200175
#21101 2015-09-02 20:01:59
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Это что, Цыпа на самом деле считает, что на нее выскочил реальный человек?  В ее-то возрасте?
В ее-то возрасте? 
#21102 2015-09-02 21:11:14
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
ах что там за испанец в чате
инессу мучает вопрос
ах может я его любила
склероз
#21103 2015-09-02 21:49:08
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
ах что там за испанец в чате
инессу мучает вопрос
ах может я его любила
склероз
Анон, это шедеврально! Аплодирую стоя! 
#21104 2015-09-05 21:38:58
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
не жжот как прежде наша цыпа
не пепелит сердца глагол
ах доктор мы ее теряем
укол
#21105 2015-09-05 22:26:00
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
ах доктор мы ее теряем
укол
хто готов пойти написать цыпе отзыв? 
#21106 2015-09-06 00:35:12
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Даже если кто-то напишет, сомневаюсь, что сильно рванет( На протяжении всей темы я читала комментарии, что Цыпа уже не торт, и думала, что аноны ошибаются, Цыпа ещё обязательно зажжет. И оказывалась права.
Но сейчас, кажись, моя очередь говорить, что Цыпа исписалась и уже не торт. =/ Мой любимый сериал на холиварне скатился в унылое говно. 
#21107 2015-09-06 13:45:48
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Я думаю, бомбить еще будет, но стандартно. Типичные причины:
- Комметировала френда, кто-то в треде не признал величия и попытался общаться как с простой смертной - бдыщ!
- Родной хомяк неловко похвалил, задал неудобный вопрос - кабум!
- Невнимательный френд очнулся, понял, что читает какую-то ебанину и задал ОЧЕНЬ неудобный вопрос - ненависть!!! черный список, бомбежка на полгода, вспоминать 10 лет
- Прочитала МТА, убедилась, что конец света близок - позажигать чисто машинально
- МТА заметил Цыпу, попытался ответить/пообещал врезать при встрече - восторженно бомбить, заметили! заметили!
- Вспомнила Женю, Лизу, Биссея, Холиварню... еще кого-то из своего списка - заныли старые раны
- Далин, Синильга, Насарох или еще кто наябедничали на кого-то - побомбило по-дружески
- Вспомнила, что не публикуют - взбомбануло
- Посмотрела на себя в зеркало - бабах!
- Вышла из дома...
- Осень..........
#21108 2015-09-06 14:05:15
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Самый интересный путь - через фрэндов. Кто-то взаимный с Синильгой тут есть?
#21109 2015-09-06 14:25:42
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Нет, решила пожечь. Теперь обложку обсуждает.
http://inesacipa.livejournal.com/784475.html
#21110 2015-09-06 15:15:33
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Над этими обложками грех не смеяться. Хотя, конечно, желательно делать это не так тяжеловесно, как Цыпа.
#21111 2015-09-07 11:35:42
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Цыпа, правильно над обложками ржут так:
- показывают кучу картинок.
- делают краткий комментарий.
В НЕКОРОТЫХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВОВСЕ БЕЗ КОИМЕНТАРИЕВ ОБОЙТИСЬ, представь себе)
А одна картинка и море унылого текста - для старых перечниц с недержагием слов.
#21112 2015-09-09 15:35:46
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
гугл помогает анону найти исходники фотошопа кулинара
спасибо Брину за жырную еду для анона!
http://inesacipa.livejournal.com/641269.html
попячено: http://www.wual.ru/6555-francuzskiy-sup … yabes.html
http://inesacipa.livejournal.com/644610.html
попячено: http://www.gastronom.ru/recipe/14700/petuh-v-vine
#21113 2015-09-09 16:09:40
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
О, это он, знаменитый петух в вине.  Помню! Незабываемо.
Помню! Незабываемо.
#21114 2015-09-09 16:17:02
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Зашел в Цыпин ЖЖ-пост про обложки, а там в коментах резвится незабываемая Омежка. 
#21115 2015-09-09 16:19:31
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Цып, а ведь даже такую лабуду, над чьей обложкой ты ржешь, напечатали. 
#21116 2015-09-09 16:44:44
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Цып, а ведь даже такую лабуду, над чьей обложкой ты ржешь, напечатали.
Она выше (шире, глубже и длиннее) этого! Печатается быдло, истинные творцы и творЦыпы сидят в уютных говнобложиках и там ваяют нетленку!
#21117 2015-09-09 16:51:37
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
ашел в Цыпин ЖЖ-пост про обложки, а там в коментах резвится незабываемая Омежка.
О да! Она узнала, где у нас кнопкакто у нас хомяковод, но так и не раскрыла нам этой тайны. 
#21118 2015-09-09 17:48:54
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
творЦыпы

#21119 2015-09-09 19:52:20
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Наконец-то Цыпа завершила свою хвалебную оду книге Коростелевой! Наслаждайтесь:)
http://inesacipa.livejournal.com/786164.html
Отредактировано (2015-09-09 19:52:41)
#21120 2015-09-09 20:19:34
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Не осилил. Только первый абзац, где про рушник и цитату из мультика. 
#21121 2015-09-09 21:01:32
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Млядь... ну хоть по Коростелевой можно было без пинания МТА написать? При чем тут МТА, вообще?
Не, я понимаю, что МТА - это у Цыпы пунктик, но пишет же она рецепты без их упоминания.
#21122 2015-09-09 21:28:58
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Рецензия никудышная. Могу перевести.
Анон-переводчик
#21123 2015-09-09 21:32:24
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Не, я понимаю, что МТА - это у Цыпы пунктик, но пишет же она рецепты без их упоминания.
Анон, ты только что подал нечитающей хф Цыпе блестящую идею. 
#21124 2015-09-09 21:33:36
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Рецензия никудышная. Могу перевести.
Анон-переводчик
Будь ласков, добрый человек, переведи! а то я больше одного абзаца не одолел...
Отредактировано (2015-09-09 21:34:07)
#21125 2015-09-09 21:34:14
- Анон
Re: №407 Критический батхерт
Рецензия никудышная. Могу перевести.
Анон-переводчик
Ох, анонче, я уже даже в адаптации не осиливаю.